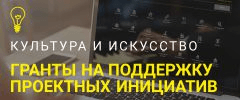Рустем ФЕСАК: «Голые чиновники – это уже не новаторский подход»
Разработка сайта:ALS-studio
«Конкурент» беседует с московским театральным режиссёром.
Рустем Фесак – имя новое для сибирского региона, но хорошо известное в театральном мире столицы. Недавний выпускник режиссёрского факультета РАТИ и Литературного института уже успел положительно зарекомендовать себя перед культурной общественностью Москвы. Его предыдущие самостоятельные постановки в московском театре Et Cetera и РАМТе были оценены критикой как «новое, свежее и умное лицо молодого театра». Также критики обращают внимание на его работу с актёрами. Сейчас в карьере Рустема новый виток, его пригласили в Иркутский академический театр имени Н.П. Охлопкова ставить спектакль по пьесе Гоголя «Женитьба». Вовсю уже идут репетиции, премьера состоится в начале ноября.
– Рустем, расскажите о своей семье.
– Мой папа военный. Я родился на Украине. Когда мне было три года, отца перевели служить в небольшой городок под Ташкентом, в Узбекистане. Там я прожил до двенадцати лет. Затем папу перевели служить в Ташкент. В 1994 году он уволился из армии, и мы переехали на его родину в Подмосковье, в город Жуковский. Оттуда я уже переехал учиться и жить в Москву. Моя мама – крымская татарка, она всю жизнь посвятила медицине. У меня татарское имя и украинская фамилия. То есть у нас такая типичная советская семья, поэтому когда меня спрашивают о национальности, я всегда говорю, что я советский или русский. (Смеётся.) Ещё у меня есть старший брат, по профессии он каменщик. То есть к искусству и театру никто никогда никакого отношения не имел. Хотя мама в детстве и мечтала стать артисткой. Но воспитывалась в строгой татарской семье, жила далеко от Москвы. И, конечно, родители её не отпустили, поэтому её детские мечты так и остались мечтами.
– Вы тоже воспитаны в строгих татарских традициях?
– Нет. У меня обычное русское воспитание. Мои родители вполне либерально относились к детям, почти всё, что я хотел, мне позволялось, нас воспитывали в добре. Знаете, мою маму саму всегда держали в строгости, – очевидно, именно поэтому в своей семье она решила давать детям больше свободы, и нам ничего не запрещалось.
– Когда вы рассказываете о маме, у вас начинают блестеть глаза. Вы очень трепетно относитесь к родителям.
– Да, я их очень люблю. Сейчас в силу занятости мы не часто видимся, но раз в неделю я стараюсь к ним приезжать. Хотя, конечно, этого мало.
– Как же вас, выросшего в такой семье, занесло в искусство?
– Я с детства занимался в театральной студии, играл в школьных постановках. И мне всё это было очень близко. С тех пор театр для меня самое интересное дело. Не могу сказать, что я со школы знал, что стану режиссёром, нет. Самое главное, что я понял, – это то, чем я хочу заниматься в будущем. Об этом своём решении я ни разу не пожалел.
– А если вдруг вам перестанет быть интересна режиссура, чем бы вы могли заняться?
– (Задумался.) Не знаю. Никогда об этом не думал. Я и в режиссуру-то попал не сразу. Я попробовал поступить на актёрский факультет, не получилось, и я поступил в Литературный институт. Я даже полгода проработал журналистом в небольшой газетке районного масштаба в Москве. За эти полгода я понял, что это не моё, и бредил уже только театром. Чётко решил во что бы то ни стало поступить на режиссёрский факультет, причём настроен был поступать и год, и два, и десять лет, то есть до тех пор, пока не возьмут. Взяли после второй попытки. Попал на курс Леонида Ефимовича Хейфеца в ГИТИС. Выпускником стал два года назад.
– Как складывалась ваша карьера после окончания института?
– Слава Богу, она до сих пор складывается, причём вполне благополучно. Фактически учёба закончилась после четвёртого курса, в 2008 году, пятый год давался на подготовку дипломного спектакля. Мой преддипломный спектакль увидел Александр Александрович Калягин. И он попросил нашего мастера посоветовать ему нескольких актёров с курса для работы в труппе, а заодно и режиссёра, раз уж подбирается такая единая команда. Леонид Ефимович Хейфец предложил эту работу мне. Я согласился. Получилось, что уже непосредственно в театре, в спектакле, который я ставил, была задействована большая часть актёров – моих однокурсников. То есть у меня был такой мягкий переход из института в театр. Я ставил спектакль по рассказам современного писателя Юрия Буйды. О нём можно сказать, что он широко известен в узких кругах. Понятия не имею, знают ли его книги в вашем регионе, вполне вероятно, что нет. Но в Москве в узких кругах он очень популярен. В это же время я работал в РАМТе ассистентом режиссёра у Алексея Бородина. После этого Алексей Владимирович дал мне возможность поставить у него на малой сцене спектакль по повестям Зощенко. Он, кстати, и сейчас значится в репертуаре, называется «Сентиментальные повести». После этого я сделал детский спектакль «Сон Каштанки» по мотивам рассказа Чехова. В Подмосковье, в Мелихово есть музей-усадьба Чехова, и там сравнительно недавно открыли хороший профессиональный театр. Вот там мы и поставили детский спектакль, его тоже до сих пор играют. Вот такие мои успехи. До этого, ещё в ГИТИСе, ставил спектакль по Марине Цветаевой «Крысолов». Это был не дипломный спектакль, но я уже значился в нём режиссёром. (Улыбается.)
– Вы уже ощущаете себя режиссёром?
– Да. Я молодой начинающий режиссёр.
– Вы помните, что вы чувствовали после своего первого спектакля?
– Мне тогда казалось, что я не доживу до премьеры. Это было тяжело, был трудный выпуск. Было ощущение, что я живу только во время репетиций, в остальное время мне казалось, что я исчезаю и меня нет. А потом я приходил на репетицию – и снова появлялся, и снова исчезал.
– Знаете, как говорят, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее.
– Да, а потом оказалось, что никто не умер и всё вокруг удивительно.
– В каком театре вам бы хотелось послужить?
– Мне абсолютно всё равно, в каком театре. Мне важно, чтобы он был живым, энергичным и рабочим. Есть театры, в которых жизнь идёт вяло. А важно, чтобы была своя атмосфера, ритм. Знаете, говорят, что если лётчики год не работают, им нужно переучиваться. В театре то же самое. Когда есть работа и атмосфера хорошая, люди хотят трудиться – это здорово. Я хочу работать с людьми, а не с театром.
– К чьим советам при постановке спектакля вы прислушиваетесь?
– На этапе создания спектакля я мало с кем разговариваю. Пожалуй, только с теми, кто в нём задействован – художники, артисты и руководитель театра. Но прислушиваюсь я ко всему, иногда даже не свои идеи с удовольствием использую, если они действительно интересны. На мой взгляд, театр и создание спектакля – это дело не индивидуальное, а общее. И мне не хочется заставлять людей делать то, что они не понимают или не хотят. Поэтому я всегда стараюсь построить диалог, чтобы актёрам было интересно. Безусловно, когда я начинаю работать над материалом, у меня есть своё видение, но я, можно сказать, собираю идеи, таким образом возникает единая компания, общее дело. Люди, с которыми работаешь, все творческие и очень интересные личности, оттого их мысли также ценны и интересны. И потом, я же режиссёр, и у меня всегда есть возможность не воспользоваться чьими-то советами, если у меня другое видение. (Улыбается.) Обожаю время работы над спектаклем. Есть ещё такие советы, которые появляются постфактум, то есть после выхода спектакля. Вот в этом случае я стараюсь также ко всему прислушиваться, но мало что меняю. Когда спектакль готов, в него уже очень трудно лезть, он становится самостоятельной единицей. Эти советы я слушаю на будущее. Иногда я сам натыкаюсь на свои собственные ошибки. И мне важно, чтобы каждый мой спектакль был каким-то этапом в моей учёбе, поэтому всё слушаю, но решения принимаю сам.
– Театральные критики отмечают вашу «точную работу с актёрами». То есть у вас получается выстроить правильный диалог с актёрами?
– Бывает по-разному. Не могу сказать, что это у меня получается всегда. Актёры – это люди творческие, но они все понимают, что нужно работать, нужно выпускать спектакль, и очень важно, чтобы нам самим нравилось то, что мы делаем. Тогда, возможно, он понравится и зрителям. Это непростой вопрос. У каждого режиссёра свои методы работы с труппой. Некоторые вообще никаких диалогов не завязывают и тем не менее достигают неплохого результата. А я всегда забочусь и волнуюсь об атмосфере на репетициях, мне важно, чтобы наша деятельность была в кайф для всех участников, важно, чтобы весь процесс создания был интересным. Хотя должен отметить, что общение с труппой не самая простая задача и не всегда мы находим общий язык.
– Вам больше нравится ставить спектакли по пьесам современных авторов или классических?
– Мне нравится крутая хорошая драматургия. Когда я нахожу в драматургии качество, хороший язык, умное, талантливое построение сюжета и историю – когда всё это сходится, то мне всё равно, современные это произведения или классические. По моему мнению, работа драматурга, написание пьесы – это очень сложная задача. Возможно, это один из самых сложных литературных жанров. За всю историю нашей страны можно по пальцам пересчитать хороших драматургов, при том, что писателей и поэтов намного больше. А этот жанр очень специфический, и далеко не каждый может его схватить. С моей точки зрения, сейчас очень мало хороших драматургов.
– Сегодня некоторые режиссёры используют новаторские идеи в постановке классики. Недавно читала, что в каком-то московском театре режиссёр в спектакле «Ревизор» выпустил на сцену чиновников с неприкрытым задом, чтобы как можно натуральнее изобразить их бедность, духовную и физическую. Вы как относитесь к таким приёмам?
– Голые чиновники – это уже не новаторский подход. (Улыбается.) А вообще, если это сделано со вкусом, не оскорбляет зрителя, выглядит непошлым, то почему бы и нет. Если в этом есть художественная необходимость и таково видение режиссёра, то он имеет право его высказывать в своих постановках. Это искусство, и здесь нет чётких рамок – что можно, а что нет. Кстати, идеи могут быть любыми, но только готовый спектакль может что-то доказать или не доказать. Есть постановки, которые могут показаться чересчур смелыми, но они мне очень нравятся. Сам я в этом отношении немного труслив. Просто я прежде всего ставлю спектакль про людей, а не про голые задницы. Вот сейчас готовим «Женитьбу» Гоголя. И я сам себе говорю: «Ну, ёлки-палки, Рустем, миллиард раз ставили «Женитьбу», ты же должен если не покорить всех, то хотя бы просто найти своё в этой пьесе». В этом, можно сказать, заключается моё «новаторство». Хотя бы потому, что этим коллективом мы ни разу не собирались и «Женитьбу» не ставили. И потом, что бы мы ни сделали, Гоголь от этого не пострадает, он свою «Женитьбу» написал, и она гениальна. А сейчас мы делаем свою. Ищем скрытые смыслы, которые автор закладывает. А у хорошего драматурга много смыслов, есть что отыскивать, копать и в итоге ставить на сцене.
– Кто для вас самый главный критик – зрители, ваши учителя, может быть, родители? Или вас это не очень интересует?
– Хороший вопрос. (Задумался.) Никогда об этом не думал. Конечно, мне важно, чтобы зрители откликались на мои постановки, в этом смысле зрители, безусловно, критики. Есть несколько моих учителей, к мнению которых я прислушиваюсь, среди них Наталья Алексеевна Зверева. Сам для себя я критиком не являюсь, потому что на выпуске я до такой степени не понимаю, что получилось, что только через полгода-год могу попытаться объективно посмотреть на свою работу. Ещё для меня главными критиками являются артисты, которые играют этот спектакль, хотя иногда они и ошибаются.
– Как вы воспринимаете чьё-то мнение о том, что вы делаете?
– С большим удовольствием. Конечно, это болезненный момент, когда мне говорят, что это плохо, особенно когда я и сам понимаю, что это действительно не получилось, это доставляет огорчение. Но я всё-таки ещё учусь, и мне очень нужна критика.
– У каждого режиссёра есть своя муза. У вас тоже?
– Если говорить про театр, то, конечно же, я влюбляюсь в артистов – и в мужчин, и в женщин. Это даёт мне огромные силы. Но никогда это не переходило в личную связь. У меня есть любимая женщина, и всё у меня хорошо в этом плане. Она тоже режиссёр, к сожалению. Когда дело касается моей работы, я чаще всего её не подпускаю, мне трудно это смешивать, и кроме нервов это ничего не вызывает. Единственное, когда у тебя всё хорошо в личной жизни, это не мешает и в некотором смысле даже помогает работе. Но назвать мою женщину своей музой я всё-таки не могу. Я не знаю, что такое муза, не понимаю. Хотя в талантливых артистов, которые задействованы в моих спектаклях, я действительно влюбляюсь. Их профессия – открываться. Их душа – рабочий инструмент. И когда они открываются, я начинаю в них влюбляться. Причём совершенно неважно, мужчина это или женщина. Но я не хочу переходить грань и смешивать работу и личное. Это всё очень сложно.
– Не хотели бы вы себя попробовать в качестве кинорежиссёра?
– Нет. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я себе профессию выбрал. Это маленькое и узкое направление, но моё. И я не хочу разбрасываться на всё, мне не хватит душевных сил и, может быть, ума. Кому-то хватает, и слава богу. А я хочу сконцентрироваться. Возможно, когда-нибудь я скажу себе: ну, вот это я умею, – и тогда задумаюсь о кино или ещё о чём-то.
– Есть у вас любимые фильмы?
– Я так мало знаю кинематограф. Но когда я попадаю на какой-нибудь фильм, каждый раз удивляюсь. Мне нравится режиссёрское кино. С удовольствием смотрю фильмы Ингмара Бергмана, Аки Каурисмяки, Тео Ангелопулоса, Антониони и Ларса фон Триера.
– Какие книги вы читаете и что было последним?
– Что я прочитал последнее? (Задумался.) По работе сейчас читаю много о Гоголе. Но, наверное, самое большое и сильное впечатление на меня произвели произведения австрийского драматурга Томаса Бернхарда. Его мало знают, в России его ставили совсем немного, я знаю всего про две постановки – одна в Москве, другая в Петербурге. Это очень серьёзный драматург и интересный, сложный для постановки. Но моя мечта – когда-нибудь поставить Бернхарда, когда профессии научусь. – Как вы отдыхаете?
– Это очень большая проблема для меня. Я не умею отдыхать, хотя и очень хочу. Чаще всего бездарно трачу время отдыха. Жду, когда кто-нибудь меня куда-нибудь затащит. (Улыбается.) Бывает, что я могу просто просидеть у телевизора. И это очень тупое времяпровождение. Я очень завидую людям, которые умеют отдыхать и делают это интересно.
– Что можете сказать о современном телевидении?
– Я не буду оригинален. Я вижу и понимаю, как много надо делать, как много надо производить телевизионных продуктов, причём быстро. От этого страдает качество, и становится порой неловко от того, что ты видишь или читаешь. Обвинить журналистов в лени или халтурном подходе трудно. Есть заказ, и нужно уложиться в сроки. Когда я вижу работу неленивую, неглупую и продуманную, то ценю это. Но отсутствие таковых – это не вина журналистов, хотя и их руками это делается. Просто сейчас определяющую роль играют деньги, и в журналистике в том числе.
– Политикой интересуетесь?
– Нет, я далёк от этого, мне это вообще не интересно.
– Ну а на выборы пойдёте?
– Знаете, недавно я впервые об этом задумался. Наверное, да, пойду. До этого никогда не ходил, потому что мне кажется это бессмысленным занятием. Но сейчас думаю, что надо сходить. Ведь я же хочу жить в демократической стране. А нужен кому-то мой голос или нет, это уже не мне решать.
– Расскажите о Москве. Какая она лично для вас?
– Большая. Слишком большая. Она энергичная, деловая, бывает жестокая. Но я себя там комфортно чувствую, ритм мне этот подходит. Много хорошего в Москве, у меня там много близких, есть к кому возвращаться.
– После того как вы поставите спектакль здесь, что будете делать дальше?
– Есть разговоры о дальнейших планах, но я не очень хочу об этом говорить.
– Вы суеверны?
– В каком-то смысле да, это страшно – рассказывать о том, чего может не случиться, тем более что нет чего-то конкретного, есть только разговоры об этом сезоне. Жизнь у нас такая, что постоянной работы нет и каждый сезон возникает новая, поэтому я не знаю, что я буду делать через пять лет. (Улыбается.)
– Вы несколько раз во время беседы употребляли слово «чудо». Вы верите в чудеса, в то, что есть какие-то высшие силы? – Да, я верю. Я действительно часто употребляю это слово, и не только в его прямом смысле. Например, в репетиционном зале иногда происходят чудеса. Такие вспышки: «О! Вот, оказывается, как можно!» Это маленькие чудеса и радости, но очень ценно, что они есть.