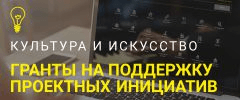Корчась в гуще бытия…
Разработка сайта:ALS-studio
Диалог о спектакле «Самоубийца» с режиссером Геннадием Гущиным
«Корчась в гуще бытия…» Поразительна смысловая значимость всего одной строчки и каждого слова в ней. Будто бы автор, Саша Черный, выразил ею самую суть пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца», хотя поэт писал вовсе не о ее герое Подсекальникове, а о себе самом.
В искусстве не редкость, когда неожиданно рифмуются или перекликаются далекие друг от друга явления. Но редкость, и очень большая редкость, когда произведение, пролежавшее под спудом и вновь запрещенное, спустя добрых 75 лет вдруг предстает перед зрителем таким современным, таким актуальным, точно было написано вчера.
Несомненно, что геном «вечно живых» наделил персонажей комедии ее автор. Но так же несомненно, что вновь вызвать их к жизни после столь долгого вынужденного летаргического сна помог талант режиссера-постановщика Иркутского академического драматического театра им. Н.П.Охлопкова, заслуженного артиста России Геннадия Гущина.
-- Сначала, признаться, было удивление: как вы рискнули взяться за пьесу, у которой столь куцая сценическая история? А когда спектакль родился, то вслед за пережитой на нем эстетической радостью пришло острое сожаление, что драматурга такой художественной мощи, побудившей Станиславского сравнить имя Эрдмана с Гоголем и Щедриным, насильственно заставили молчать. Отбили охоту писать пьесы!
-- Эпиграмма-то не на пустом месте родилась: «Мы за смех. Но нам нужны / Подобрее Щедрины, / И такие Гоголи, / Чтобы нас не трогали…»
-- В театральной и краткой литературной энциклопедиях (издания 1967 и 1975 годов) роль Николая Робертовича Эрдмана свели к сочинению эстрадных куплетов, киносценариев и либретто оперетт. Пьеса «Самоубийца» в одном случае вообще не упоминается, в другом -- с пометой «не опубликована». Конечно, теперь сняты запреты, цензура отменена, и все-таки не будет преувеличением сказать, что вы, Геннадий Степанович, извлекли на свет зарытый клад. И заставили публику восхититься. Отменный получился спектакль!
-- Спасибо. Вообще-то, выбору пьесы помогло стечение обстоятельств. Я был озабочен поисками произведения, чтобы подарить его на бенефис своему однокурснику, заслуженному артисту России Николаю Дубакову. А тут производственная необходимость потребовала: прямо завтра, хоть тресни, предложить в репертуар название и даже распределение ролей. То есть как в спорте -- наутро соревнование, я еще не продышался после предыдущей дистанции…
-- И лыжи не смазал…
-- Я их еще не купил даже! (Смех.) Обычно я как минимум целый месяц думаю над пьесой, ищу к ней подходы. А тут пришлось время, необходимое для подготовки, спрессовать в сутки. Комедия-то была прочитана раньше, и не один раз. Жила своей жизнью где-то в моем подсознании. Лежала и ждала своего времени.
-- И дождалась, по счастью.
-- Да. В рецензиях на первые спектакли 30-х годов, которые сразу были запрещены, критики, по необходимости вуалируя глубину идеи, зачисляли Семена Подсекальникова в разряд мелких мещан. Но мое нутро сопротивляется этому, не так все просто с героем. В пьесе я должен за кого-то переживать, обязательно мое сердце должно оплакивать кого-то, иначе смысла нет -- в пустоте просто смеяться. Прежде всего это живые люди! И сам он, и жена, и теща, трогательные в своей готовности всячески помочь главе семьи… Они не блещут, может быть, умом, смешны в своей неотягощенности интеллектом: мы себя умными полагаем, забив головы информацией, а что-то более важное утратив. И по мере углубления в пьесу я пришел к мысли, что если в XIX веке "все мы вышли из гоголевской «Шинели», то после революции справедливо, мне кажется, сказать: советский народ немножко вышел из Подсекальникова.
-- И недалеко ушел от него с течением времени!
-- Пожалуй. Герой -- человек массы, загнанный туда против воли, точнее, его согласием никто и не интересовался. Но -- желающий вырваться из этой безликой массы. Его попытки изменить предуготовленную -- судьбой? системой? -- незавидную участь смешны, нелепы, глупы порой, но вызывают сочувствие. Мне во время работы над материалом обязательно нужно полюбить персонажи, найти даже для самых непривлекательных какие-то мотивы, их оправдывающие. Для меня очень важным стал Глухонемой, своего рода юродивый, которого я провел через весь спектакль как скрытый символ. У Эрдмана он лишь в двух эпизодах выходит -- в момент монолога о самоубийстве и около гроба. Для Глухонемого, который улыбается всем и всегда, все происходящее с Подсекальниковым и вокруг него -- суета сует, он отрешен от этого мира. Потому что не надо суетиться: все будет так, как должно быть, даже если будет наоборот -- так сказано в Коране.
-- Коран? Умеете вы, однако, удивлять, Геннадий Степанович.
-- Это просто формула там четкая. Глухонемой видит, как в Подсекальникове зарождается мысль, как в нем начинает работать душа. Раньше его интерес замыкался на ливерной колбасе, пока не возникла ситуация, что он должен застрелиться. Клюнул жареный петух, тогда и пошли размышления о смысле бытия, о том, есть ли жизнь после смерти.
-- Сцены подстрекательства к самоубийству уморительно смешны. Зал вообще по ходу спектакля от души хохочет. Но странный эффект: где-то внутри себя зритель ощущает вместе со смехом и слезы. Как сказал ваш коллега из области кино, в искусстве самое главное -- плакать и смеяться. Это получилось. Наверное, нелишне добавить еще одну задачу: размышлять.
-- Безусловно. В спектакле, вы помните, разбивается зеркало. А разбитое зеркало -- это всегда к несчастью. Но перед ним прихорашиваются, заглядывают в него все действующие лица, хотя что там можно увидеть? Однако никто не замечает этой искаженности! В конце, когда Глухонемой поворачивает зеркало к публике и начинает пускать в зал зайчики, -- это, если хотите, парафраз гоголевского: «Над кем смеетесь, господа?..» Надо признать, что все мы отличаемся известным стадным чувством, мы все существуем в этой толпе, начиная от бомжа и кончая самым верхом, следуем каким-то ложным идеям, фальшивым призывам и лозунгам. И еще оправдываем себя.
-- Вместе с героем, которому открылось нечто новое, неведомое его окружению, публика в зале тоже становится причастна к метаморфозе, происходящей с несчастным Подсекальниковым. Смех, который почти не смолкает, отнюдь не животный. Он очищает, идет незримая духовная работа, ради которой, по большому счету, и существует театр.
-- Незадавшийся трубач Семен, душа которого до известного момента была безоблачно аполитична (по выражению Александра Володина), вдруг ощущает пробуждение достоинства в себе. Если помните, он произносит фразу: «Правительство не знает, что живет на белом свете такой Подсекальников. А я есть!» Вполне сегодняшняя ситуация, согласитесь. Думаю, пьеса потому и выдержала испытание временем, что она про человека, про его душу прежде всего. Но явствен в ней и другой полюс обращения: власть. На репетициях мы добивались, чтобы в спектакле звучала боль. А она может родиться только тогда, когда мы, режиссер и актеры, сами ее почувствуем.
Я вот упомянул драматурга Володина. Как раз ему принадлежит горькое наблюдение, сдобренное тоже юмором: «Мало где люди так зависят от правительства, от его непостижимых ошибок и от решительного исправления этих ошибок на другие». Потому и корчимся все в гуще бытия.
-- Да, гражданская позиция театра выражена в спектакле отчетливо. Жаль, что мы сосредоточились в основном на его философии, и то, можно сказать, лишь в первом приближении к ней. А блестящие актерские работы, художественные достоинства, неожиданные находки и решения? Оставим удовольствие погрузиться в плоть спектакля самим зрителям. Спасибо за содержательную беседу, Геннадий Степанович.