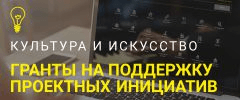«Капитанская дочка»: дневник репетиции
Разработка сайта:ALS-studio
Театр драмы последним вступил на тропу юбилейной активности: комиссия едва успеет просмотреть еще и "Капитанскую дочку", выходящую в самый день подведения итогов около пушкинского марафона.
Между тем, в драме репетиции в разгаре, и вырисовывается что-то любопытное. Нестандартная, далекая от школьных штампов концепция инсценировки (здесь режиссер Александр Булдаков - полноправный соавтор А. Гетмана из С.-Петербурга) подсказала и форму спектакля, совсем не хрестоматийную. Воспоминания Петра Андреевича Гринева напоминают в спектакле порою некий «Сон о "Капитанской дочке"». И персонажи знакомой с детства повести Пушкина поворачиваются уже на репетиции - неожиданно свежо, живо и трогательно.
И исторический взгляд режиссера, неизбежный в спектакле о пугачевском бунте, далек от сусального штампа, памятного и по школе, и по известному фильму с монументальным Сергеем Лукьяновым, романтичным Олегом Стриженовым и эфемерной Ией Арепиной.
Я сижу на репетиции (жанр "предисловия к премьере" тоже диктуется юбилейной необходимостью: пушкинский номер газеты не может задерживаться) и предложу вам свои записи прямо из пустого зала: есть такая внутритеатральная форма "дневника репетиций"). Но прежде - несколько слов режиссера.
А. Булдаков: "Пушкин во всех общественных изменениях интересовался прежде всего моральным итогом и был противником всякого насилия. Его отношение к бунту, мятежу - сугубо отрицательное. Думаю, не совсем случайно и его отсутствие на Сенатской площади, что бы об этом ни рассказывали легенды для советской школы. Мне кажется, когда он пишет: "Не дай мне Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный", - он именно это, впрямую, и имеет в виду, без всяких подтекстов, без фиги в кармане. Он хорошо видел, к чему ведут главари кровавых бунтов, и был далек от любования Пугачевым, хотя 70 лет нам рассказывали по-другому. Особенно в его "Истории Пугачева" герой - фигура страшная.
Вот от таких размышлений я и иду в спектакле.
Стилистика воспоминаний задана отчасти Пушкиным и развита в инсценировке. Меня греет такой подход: можно поиграть и с характеристиками, и со временем, и с темпоритмами. Одно дело играть эпизоды в настоящем времени и другое - в воспоминании, наплывами, то ускоряющимися, то замедляющимися. В чисто сценическом плане это может быть интересно. Через воспоминания я неожиданно пришел к сцене сна, совсем мимолетной у Пушкина и отсутствовавшей в первом варианте инсценировки; а сон что-то совсем по-новому и подсвечивает, и объясняет: здесь герой сильней раскрыт.
Вдруг, неожиданно для меня, выявилась гораздо ярче фигура Маши - собственно капитанской дочки. Она почему-то просится во все ключевые моменты спектакля. В отличие от Цветаевой, обозвавшей Машу "дурой", я считаю эту девушку очень важным, глубоким пушкинским открытием: в ней есть, на мой взгляд, очень русский архетип. Чистота, верность, вообще моральная ясность и определенность здесь невероятные. Мне кажется, вера и любовь Маши проникают в самое сердце Пети Гринева и позволяют ему противостоять пугачевщине. Как мужчина, как личность, как человек чести и долга он возникает только рядом с Машей. А устоять ему невероятно трудно: в этой разгулявшейся кровавой стихии он всей жизнью на стороне тех простых и основополагающих истин, которые воплощены в "Капитанской дочке".
Репетиция идет еще на почти пустой сцене - в "черном кабинете". Небольшой помост, который движется поперек сцены к нам и от нас, служит и как "сцена на сцене", и как телега, заплутавшая в метель (а из оркестровой ямы неспешно выберется тот самый мужик в драном армяке, которому Гринев подарит заячью шубу - Пугачев, пока неопознанный); по бокам — несколько грубо сколоченных рам из неструганных тонких березок. Да еще несколько свежесколоченных табуреток.
Выходит Женя Солонинкин, что-то протяжно, тоскливо и одновременно со смутной угрозой поет. Какую-то незатасканную и прекрасную русскую песню. И как поет! Это настоящий шок. И сразу возникает атмосфера тревоги. Однако паузу мог бы подержать подольше.
Спектакль-воспоминание: на сцене два Гринева; постарше - это рассказчик из будущего, Орехов, и второй - тот, из повести, юный Петя - Братенков.
Цена "черного кабинета" - как начала пауз, как начала всякого звука - высока.
В воспоминаниях пластика может быть острей, гротескней.
В музыке возникает метель. Удивительно хорошо, лаконично, тревожно. Чья музыка? (Потом узнал: музыку С. Маркидонов бережно взял из Губайдулиной, Шнитке, Щедрина и В. Артемова).
Жанр проявляется: Сон о "Капитанской дочке" Пушкина. И Сон новый.
Проблема ритма: мужик с топором - нестрашный; движется случайно, деланно.
Пугачев: первое появление - органный голос и мужская стать Дубакова; точный выбор.
Темп рассказчика - Орехова быстр и без экзальтации: хорошо, точно; для него все уже в прошлом, отстоялось; стиль наплыва.
Гринев: стать юного аристократа - красив Братенков. А ведь не всегда так, не во всех спектаклях. Здесь угадан и попал в тон.
Инсценировщики молодцы: и динамично, и с юмором.
Василиса Егоровна: настоящий комендант Белогорской крепости. Так у Пушкина; а здесь Слабунова - очень самостоятельная индивидуальность.
Не все движения в сцене у мужчин поставлены: хлопочут руками.
Маша - Милена Гурова: стройна (как спинку держит!) и спокойна.
Появления Венгера и Егунова в эпизодах - весомы, что естественно. Как хороши они без париков. Может, в воспоминании они и не обязательны?
В ряде сцен вырисовывается стиль повести в духе Филдинга или Диккенса.
Десницкий - Савельич. Он грамотный, не должно ли это повлиять на самочувствие крепостного?
Какая забытая прелесть: "Я не выйду за вас без благословения ваших родителей"! И кто сейчас может это сказать, не соврав? А Милена так сказала - у меня дух перехватило.
После перерыва - работа над деталями (это репетируется первый акт).
Нужна железная мизансценическая геометрия. Особенно для некоторых рас-тренированных артистов.
Вот ведь в чем дело: слепить нужное из тела артиста.
Грим, костюм, пластика "француза" - Тюшнякова - уточняются. Режиссер проходит сцену несколько раз, все больше "экономя" в звуке и движении.
Не надо бы переводить француза: это затягивает время эпизода. Вот в лингвистическом театре Игоря Ливанта час все говорят по-французски, а все понятно. А здесь такая возможность дать пластический перевод: здесь ведь артисты, а там - студенты.
Венгер: надо сыграть офицера и строгого отца - он сразу все в себе нашел. Здесь все есть! Повспоминать бы Хлопушу-Высоцкого и Вожака из "Оптимистической" - Юрия Толубеева - Жене и Коле.
Хорошо определил Булдаков: всем говорить своим голосом! Всем говорить своим голосом - и своим телом!
Отец крестит сына слева направо. Так ли?
Движение порой случайно.
Инсценировка прозы: вынужденно много народу. Но можно и "сэкономить", кажется; для наплывов память слишком подробна: вполне допустимы и пробелы, и тогда эпизодических персонажей может быть и поменьше.
Вообще - гораздо больше неожиданностей, игры может быть в "воспоминательной" пластике.
Репетиция продолжается.
От этой "Капитанской дочки" можно ждать результата.