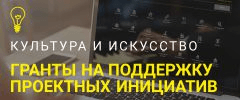Иркутск: режиссерская лаборатория «Актуальная драма». Часть 1. (Студия русской культуры)
Разработка сайта:ALS-studio
Да, именно так – в сентябрьские дни в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова все мы будто вошли в реку с обратным течением. Большой и привольный XIII театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова вынужденно поменял свой привычный формат – место больших фестивальных спектаклей заняли эскизы режиссеров – участников лаборатории «Актуальная драма». Но, поскольку никакого «обратного течения» не бывает без притока вод материнской реки, то и она, естественно, была – три спектакля Иркутской драмы элегантно уравновесили поиски, метания и мечтания драмы молодой и моложавой.
Режиссерские лаборатории, на мой взгляд, решают несколько задач.
Во-первых, при той конкуренции на режиссерском рынке (от «перепроизводства» в профессии), которая нынче очевидна, они реально дают возможность режиссерам быть в форме. Любая лаборатория – это и режиссерский интенсив, их личный тренинг.
Во-вторых, умные «академики» (как в Иркутской драме) в лице директора Анатолия Стрельцова, прекрасно понимают, что стационарный, выстроенный с имперской роскошью и неведомым уже классицистским дворянским достоинством театр, – такой театр есть эстетически режимное учреждение (в этом месте вздрогнут, страдающие от советской цензуры, но мы не обратим на это внимания). Говоря иначе – словами Валентина Распутина – здесь всегда ждут, «дав моде притереться в народе». То, что «режиссерские лаборатории» – штука модная, не знает только ленивый. А потому эту самую дозу не академизма, алогизма, крикливости, истеризма, жаргонизма и матерной лексики, мистицизма, тотального физиологизма и всяких прочих активностей, присущих «новой драме», в Иркутском академическом уравновесили как отбором (без матершины!), так и задали планку высокого смыслового регистра критического обсуждения. Моя личная цель как критика-ментора была одна: погрузить всех участников в серьезную культуру критического размышления об увиденном; провести всех (и режиссеров прежде всего) путём независимой мысли, – ведь я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что им на лабораториях говорили и говорят другое, бесконечно взвинчивая градус их внимания к «современному искусству», которое упорно обволакивают флёром чуть-чуть «запрещенно-неофициального», слегка «оппозиционного» (ведь не случайно адепт «новой драмы» при любой её критике немедленно изымает «из широких штанин» угрозу – угрозу драматическим свободам в виде «нормативов искусства сталинского времени»).
Умные «академики», опять-таки знают: говорить долго и только на эстетическом языке обыденной психологии нельзя, – вырабатывается автоматизм привычки и прочая бескрылость актерской игры. Но как сегодня актеру не соблазниться разнообразием форм, что на слуху? Тут вам и иммерсивный театр с вербатимом под ручку, и публицистический театр.doc, который теснят «рецептивный театр» и «тактильный театр»; а не хотите ли поиграть в «театр свидетелей», в визуальный театр, в театр синкретически-пластический?! Понятно, что, артист скажет «хочу»! Как ясно и то, что, опробовав их, взяв «на зубок», как правило актеру, владеющему профессией, становится понятно, что любой формальный поиск может быть не менее бескрылым, чем бытовой академизм, что и он (поиск форм) не может дать слишком многого. Но ведь хочется новизны и движения театрального воздуха!
И, наконец, театр без зрителя не меньший нонсенс, чем гоголевские «две коровы, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю». И несмотря на то, что публики на лабораторных эскизах было мало по известным причинам, – голоса зрителей звучали на обсуждениях (а я, к тому же, читала лекцию «О зрительских стратегиях в современном театре»). Безусловно, опыт «актуальной драмы» в роскошной «раме» Иркутского академического – это и опыт для публики. И мне было чрезвычайно важно, что театр не поддержал стратегию натаскивания публики на современное искусство (нынче считается, что публику надо дрессировать, насильно научать принимать современное искусство)! А вот некоторые иркутские коучи, ищущие в «актуальной драме» психотерапевтического аффекта и отражения психопатологии личности, работа с каковыми их кормит, – такие «продвинутые» коучи покинули зал, разочарованные, видимо, пышущей здоровьем иркутской публикой.
В общем, анализируя репертуарные спектакли театра, так и говоря о режиссерских опытах лаборатории «Актуальная драма», я не меняла своих сложных критериев. Театр связан с современностью наиболее глубоко именно через зрителя как существенную «составляющую» своего искусства. Театр может быть в своей художественной сути живым или мёртвым, независимо от того, говорит ли он с нами из классической неисчерпаемой глубины, или громко кричит из злободневной безнадежной прозы жизни. Всё дело в этом самом художественно-невидимом «веществе», в «щепотки художественности», с помощью которых творчество или становится силой защитной и опорной, или, при их отсутствии – скукой разрушительной.
Освободительное наслаждение
Лаборатория, конечно же, «перекодировала» прежде всего работу с актерами – на свежих режиссеров набросились с интересом, хотя и главный режиссер театра Станислав Мальцев достаточно недавно пришел в театр.
Скажу сразу – я не говорю о драме как таковой, но только о том типе спектакля, и его качествах, что представлен был в эскизе как режиссерская подача.
Итак, эскизы спектаклей представили Николай Берман по «актуальной драме» «Олимпия» (2013) Ольги Мухиной; Андрей Шляпин по пьесе Дмитрия Калинина «Кое-что о том самом и не только…» (2007); Александр Баркар – по пьесе белорусского драматурга Д. Богославского «13 правил баскетбола, сформулированные Джеймсом Нейсмитом» (2018); Евгений Закиров показал эскиз по сильно разобранной по нашим театрам пьесе француза Ф. Зеллера «Папа» (2014); и, наконец, Виктор Стрельченко показал свой эскиз по пьесе немецкой писательницы Дэа Лоэр «Синяя борода – надежда женщин» (1997).
Как видим границы рождения «актуальной драмы» располагались на иркутской лаборатории между 1997 и 2018 годом. Все эти пьесы ставились на сценах, то есть имели некоторую сценическую судьбу, иногда и вполне заметную – как «Олимпия» О. Мухиной в «Мастерской Фоменко».
Вот и поговорим об увиденном с точки зрения заявленного мной «освободительного наслаждения».
Николай Берман поместил публику на сцену – этот «столичный» кунштюк в Иркутском театре был опробован впервые, и, безусловно, дал публике новые художественные переживания: ведь ты на исторической сцене, а перед тобой раскрывается во всем великолепии имперский роскошный театральный зал с его непобедимой красотой, с его классической гармонией партера, лож бенуара, ярусами. И этот мощный эстетический образ, безусловно, помимо воли всех участников спектакля, сильно работал. Сам по себе. Собственной эстетической силой. Царственно отделившись от того, что происходило на сцене. И только иногда «позволяя» актерам взаимодействовать с собой: включения в пространство спектакля правой ложи, где располагались то юные девы с биноклем, то грозный генерал, как и появление Мамы на верхнем ярусе или катание на роликах по проходам партера и амфитеатра были хороши – «гений места» зрительного зала явно дышал в спину актеров).
А на сцене, где разместилась публика, играли первые несколько эпизодов мухинской «Олимпии» – играли эпоху (с 1975 года до олимпийского 1980-го и чуть дальше). Я не буду сейчас много говорить о пьесе, олимпийские темы которой имеют несколько культурных пластов: от посвящения Лени Рифеншталь, автору фильма «Олимпия» (1936) – её гимну немецкой нации, освобождающейся от унижения (но мы-то помним, как быстро закончился этот период свободного немецкого духа!), до сквозного, сквозь века, прохождения сакрального олимпийского горения, мирно сошедшего на московскую семью Стечкиных. Папа Стечкин – олимпийский чемпион (в античности – олимпионик), благополучно проживающий с семьей (Бабушка, Мама, Алеша-сын) в «большой сталинской квартире» с окнами на Москва-реку в Олимпийской деревне. Вообще-то, в параметрах эпохи, Стечкины живут вполне себе на Олимпе (и, конечно, этого не умеют вовремя понять).
Ольга Мухина работает с материалом жизни как художник, то есть плетет свою драматургическую сеть, стараясь не забыть все стороны «антитез», которыми голосило время. Тут и Краснознаменный, Ордена Трудового Красного Знамени, ансамбль песни и пляски, в котором пела Бабушка (и откуда, видимо, её качественный жизненный оптимизм, прочный как сталь); здесь и полное погружение семьи в песенную массовую культуру самого разного толка – от Софии Ротару и Пугачевой, до Высоцкого и Джо Дассена. Смерти Высоцкого и Цоя, Брежнева, Андропова, Черненко и Дассена идут чередой и фоном жизни героев. Брежнев, читающий текст про загнивающий капитализм и Горбачев, озвучивающий свои перестроечные «апрельские тезисы» – тоже мифы эпохи. Первые бутылки фанты и пепси-колы (символы времени) приносит Алёше Папа с олимпийских мероприятий, и первая очередь в Макдональдс на Пушкинской не остается без внимания семьи. Как, впрочем, и первая языковая интервенция – фаст фуд пока плохо выговаривается и весьма скептически воспринимается (особенно Бабушкой, удивившейся, что уже и «американцев к нам пускают»).
Режиссер сцену не загружал – семейный стол с четырьмя стульями, да прозрачный занавес с визуальными проекциями – то Брежнева и Горбачева с Раисой Максимовной (куда же без неё!), то официальных заседаний, человеческой реки на демонстрациях или похоронах Высоцкого (от близости «экрана» к публике, некоторые крупные планы были категорически давящими, тогда как пьеса автора все же сделана из более летучего и «горючего» материала).
На сцене царствовали актеры, совершившие «прыжок» в такую игру, которая восстанавливает полноту объема жизни, когда «то время» мощно являет себя не только в символах и песнях, и, главное, – предъявляется в лицах, сквозь которые время и проходит. Актеры играли с азартом и наслаждением – эскиз получился подвижным, имеющим перспективу роста. Поскольку драматург вообще не занимается политизацией и актуализацией эпохи, а при наличии двух групп героев (молодые и пожившие) никак не озабочена проблемой «отцов и детей», то принцип её пьесы – течение, переливание, без всякой форсированности каких-либо высот (кроме спортивных). Что-то таинственно разумное чувствует Ольга Мухина в ходе времён, что позволяет ей избегать темных мыслей о своих героях.
Наивными и искренними красками без всякой психической мути играет Дмитрий Чикризов юного Алёшу. А вот юные девочки из балетной школы Лариса и Катя (в Ларису влюблен Алёша) у Екатерины Константиновой и Надежды Савиной помещаются между резкими перепадами – от счастья юности (катание на роликах в Александровском саду тут еще и акт любви, а, главное, её осязательности) до отчаянного напряжения (девочки с «другого берега», чем сын олимпийца и будущий олимпиец Алеша, Москвы-реки, быстрее «смелеют», позволяя себе, как Лариса ненавидеть отца-генерала).
Само же семейство Стечкиных («оружейный корень» фамилий тоже у автора не случаен) – всю пьесу и тянет эту лямку эпохи (она скоро станет тяжелее, чем у «бурлаков на Волге»). Но пока перед нами ещё вполне счастливый застой, переходящий в радость перестроечной свободы. И артисты дают класс игры, в которой нет никаких психологических тривиальностей (тривиальна скорее режиссерская задача – когда исполняется гимн СССР у Мухиной Алёша говорит: «Мы с бабушкой… оба плачем. Я не понимаю, что происходит в моем сердце под эту музыку, но это точно из-за нее. Я так люблю свою Родину, я так люблю свою маму, папу и бабушку, что слезы льются из глаз. Слезы абсолютного счастья». В эскизе режиссер помещает артистов в центр визуального герба – Алеша все старается вырваться или не стоять «на вытяжку», а Бабушка и Мама с обеих сторон его тыркают и «строят». Политическое (либеральное) «мизасценирование» в современном театре обязательно и мало кто может ослушаться. Режиссера ведь тоже «держат» с двух сторон столичные кураторы). Тем не менее, Николай Бергман во многом дал волю актерам, их самораскрывающимся натурам. Евгения Гайдукова (Мама) – актриса рисунка острого, любящая «заметные жесты», играет здесь опаслива и трезво, скептически комментируя некоторые ожидания мужа (его перестроечные позывы к «прекрасному будущему, к демократии, к свободе, в которой будут жить наши дети»). Прямота и оптимизм Папы у Алексея Орлова (II); грубоватый, но характерный; с полной отдачей делу тренер Макаров и генерал-афганец Токарев Артёма Довгополого – хриплые интонации актеру нужны для того, чтобы сообщить его необыденный опыт (в его исполнении песня о «Черном тюльпане» обретает такие обертоны, что понимаешь, кому и чему отдана душа генерала-афганца); актерская тяга Ольги Шмидгаль в роли Бабушки (в ней такая витальная сила, проявляющая себя под видом даже некоторой легкомысленности, что впору говорить об особых столичных старухах. А её «седьмое поколение» в статусе москвички уж точно, напоминает о «старых принципах», не выветрившихся и за весь XX век) – актерская тяга актрисы создает и в нас умную сердечность, внимательность особого рода – не осуждающую, но открывающую дверь в живущее в нас прошлое. И вообще, Бабушка тут самая летящая (всё серьезное преподносит в милой артистической форме) – как, смею считать, и предполагала драматург.
Множество личных ассоциаций вызвал эскиз «Олимпия» – публика понимала, что спектакль говорит «о своем», а потому сопереживание ему (столь презираемое современным модным театром) было очевидным и ясным как день.
Эскиз спектакля Андрея Шляпина «Кое-что о том самом и не только…» по пьесе Дмитрия Калинина – это попросту эстетическое восстание против того тупого утилитаризма, в который сталкивает человека век-цифроед. Режиссёр одевает артистов в современные костюмы совсем не с общепринятой целью (сегодня «человек в костюме» – это сигнал понимающим «своим», сигнал об «актуальности» интерпретации). Андрей Шляпин предложил артистам в этом отчаянно взрослом костюме (принадлежащим «офисному планктону» и «белым воротничкам») сыграть детей, ничего не меняя в своем возрасте. Сыграть историю двора – и открыть, в результате, в каждом из нас то начало власти детства, когда возможно буквально все: строить звездолет при помощи вентилятора и утюга, безнадежно любить в четыре года; и замирать от девичьей красоты в шесть лет; всерьез драться и отчаянно радостно мириться, готовить себя к дружбе и прощать невыносимые характеры девчонок.
Заслуженный артист России Александр Братенков, Андрей Винокуров, заслуженный артист России Игорь Чирва, Александр Дулов, Валерий Жуков, Виктория Инадворская, Милена Антипина, Анастасия Шикаренко, Анастасия Пушилина – создали хрустально-ясный мир, снова и снова утвердили нас в том, что живые миры можно только творить. Творить своей любовью. Творить очеловеченно и осмысленно. Ведь мы, утонувшие в «искусстве отвращения», совершенно забыли в будничной суете об её (игры) идеальных возможностях. Я говорю о той пленительности игры, которой одарили нас Игорь Чирва и Александр Братенков, Валерий Жуков (он вообще ничего не говорит!) и Анастасия Пушилина. Я говорю о понимающей радости в образе, созданном Викторией Инадворской (баба Люба). И даже по темному фону (Ядвига Милены Антипиной, например, умудряется всё о всех знать и даже за конфеты приторговывать информацией; чувствуется, что в будущем из неё получится практичная любительница интриги) – даже и по темному фону «рисовать» красками светлыми, не злыми.
Игра всех актеров – простодушна. Именно тут я вижу ключ к той достоверности, с какой эти взрослые люди (актеры) преодолевают свою избыточную телесность. Боже, и у них это получается!
Эскиз Андрея Шляпина распахнут навстречу публике совершенно по-детски. Он затрагивает в нас болевые точки – указывает на ту святую простоту мира, от которой мы ушли критически далеко. Он прямо, от актера в зал, передает чувство романтической любви и дружбы как такого опыта, который только и создает человека в человеке (но дружба и открывает человеку самого себя).
У актеров нет помогающей им и «застраивающей» их предметной среды (кроме простых ширм для выхода, входа, маскировки, которые, как предметы в детстве, могут быть всем сразу; кроме железной кровати, на которой все они отправятся на Марс). И только в финальной сцене откроется второе пространство (глубина сцены), в котором марсианским красным светом будут окрашены круглые шары, а розовые верблюды, которые снятся девочке Гале, великодушно не материализованы – оставлены и для нашего воображения.
Совместное переживание чудес и печалей детства прозвучало мажорным аккордом на лаборатории, явив воочию через актеров тот удивительный акт, который доставляет особенную радость, так как сходит со сцены в мир (зал) на наших глазах. Здесь и сейчас. Толковый вышел эскиз (только несколько сцен финала в него не вошли) – он стал апологией такой театральности, что дышит новым в привычных театральных параметрах; для которой не нужны сложные визуальные нагрузки; где царствует артист. Право, сегодня подобная верность театру выглядит практически как мужество.
Третий эскиз по пьесе «13 правил баскетбола, сформулированные Джеймсом Нейсмитом» режиссёра Александр Баркара с большой дозой концентрации вобрал, на мой взгляд, все «отходы» от деятельности «новой драмы» на сцене. Сразу скажу – Александр склонен к размышлению, что важно. Именно поэтому, я и дерзаю считать, что была услышана им.
В нашем случае (Иркутск, Сибирь, 2021 год) абсолютно неважно, что когда-то был-жил и сформулировал свои 13 правил баскетбола некий Джеймс Нейсмит (живой актер Сергей Братенков, читающий эти «правила» монотонным голосом и расположенный среди публики, тут не больше заметен, чем мерный стук неживого метронома). Современная драма равно может сообщать о «150-ти причинах не любить родину» или о двадцати способах есть суши. Новодраматургам кажется, что найти приём (механический) – это уже стать значительным. Режиссер, собственно, тоже придумал в ответ автору свой приём: понятно, что никто не шил костюмы артистом, а из подбора взяли белый верх – черный низ (и у двух актрис, и у двух актеров). Перед нами две семейные пары, которые встретились, чтобы отпраздновать день рождения одного из мужей (он тренер по баскетболу – надо же хоть как-то привязать драму к 13-ти правилам). С другой стороны, тут есть и вторая простенькая авторская идея – мол есть некие правила, но есть жизнь, – и это как раз то, что их нарушает. Естественно, ни один из пассажей такого рода никогда не доказывается, не мотивируется, как принято у апологетов «автоматизма» приёма.
Мы сразу видим, что на весь рваный текст (качество которого весьма посредственно и примитивно, как это любит такая драма) режиссером накладывается некое физическое действие, которое никак не связано с текстом! Актеры будут двигаться весь спектакль-эскиз (55 минут) в рисунке, который насколько для них напряжен, настолько и случаен для публики, потому как связи пластики, жеста, физики мизансцены со смыслом слов и состоянием героев попросту нет. (Конечно, тут есть для актеров всегда желанный эффект похудения как весьма симпатичный итог лабораторной работы).
Я отдаю себе отчет в том, что, если актеры бегут по кругу и говорят какие-то слова типа «Вот. Голову подними. Вот, а теперь просто плюнь на пол. Просто на пол cплюнь...», режиссер им как-то объяснил, почему они в этот момент бегут, или стоят в позе «лианы»; а в другой стоят друг против друга, или катаются по сцене; или когда произносят текст «посмотри в глазок, кто-то пришел», то буквально расширяют друг другу глаза…Наверное, режиссер объяснил, почему условно едят, условно «слизывая» условный торт с лежащей на полу неусловного тела актрисы; почему жена говорит мужу про торт, сидя у него на плече; почему примитивно-бытовой текст, выполненный актером в технике истерики о намерении «вычеркнуть друг друга из жизни», застроенный геометрическим мизансценированием нужно произносить, перевертывая актрису вверх ногами… И так далее, и тому подобное. Режиссерский приём (упаси вас Шекспир, считать, что я против приёма и формы – в любом приёме есть его первый, безусловный для режиссера и актеров, ценностный пласт – радость «находки») в нашем случае эксплуатируется так индивидуально-закодировано, что к финалу эскиза воспринимается уже как пустое подобие самому себе.
Уверена, на репетициях Николаю Стрельченко, Константин Агееву, Ярославе Александровой, Алёна Бочкарёвой было интересно и зажигательно – это действительно, «работа для себя», «театр для себя», который невероятно скучен для публики. Публика такому театру попросту НЕ НУЖНА. Им, наверное, очень хорошо бесконечно репетировать – двигаться, кружить, говорить бессвязные тексты, оправдывая происходящее своей логикой на четверых. Только проблема в том, что «театр для себя» никто не обязан разгадывать. Тут нет символизма, за которым стоит огромная культурная глубина. Современный театр путает символизм, ритуал и произвол. Произвол как личная сигнальная система проявился, например, так: юбку, надетую поверх брюк на одного актера, я «прочитала» как указывающую (по типу её) на воинственность восточного ритуального костюма; но на самом-то деле, эта самая юбка имела прямо противоположный моей ассоциации смысл – по словам режиссера, он так обозначал некие мужские (психофизические?) проблемы героя.
В общем, возможно, они хотели сделать (как нынче принято) модный пластический спектакль, но вышел у них «половой спектакль», в самом буквальном смысле слова. Основное пребывание артиста было на полу – в позе сидя, позе лежа, позе полулежа, позе «на четвереньках» или боковом ползании.
Конечно, современные режиссеры уже вполне набили руку – техники подменили тут творчество. Увы, никто из артистов этого эскиза не отличен от другого, – я не могу назвать и ни одной их личной особенной индивидуальной интонации, «звукового жеста» (термин Тынянова). Это всегда меня веселит: борцы за свободные права «новой драмы» жесточайшим образом лишают актеров личностного начала. Перед нами всегда некое синеблузное «коллективотворчество», автоматизм сценического существования, который им кажется «субъективной вариативностью восприятия действительности». Субъективной настолько, что мухи дохнут от скуки.
Неужели не было никакого смысла – спросит меня читатель? При большом желании его можно наковырять – как изюм из булочки. Например, как жена одного изменила с другом, который тоже тут же, на дне рождения устраивает разборку; или как жена другого из зависти и злобы подделала документы анализов беременной жены друга и та сделала аборт – вот, собственно и всё. Я не хочу сказать, что предательство, прелюбодейство или убийство во чреве – темы не серьезные. Всё дело в том, КАК, ЗАЧЕМ, и с КАКОЙ мотивацией об этом говорится.
Застраивая спектакль некой абстрактной пластикой и физическими действиями, Александр Баркар некоторым образом сгладил истеризм, замаскировал ту концентрацию злобы, брани и дряни, которыми автор наполнил пьесу. Но ни он, ни актеры все равно не смогли преодолеть жесткие идейные границы пьесы.
Все дело в том, что «новая драма» принадлежит к сформировавшейся индустрии обличений, разоблачений, физически-шокирующих практик. Индустрия эта, с одной стороны, создаётся специально для «потребителей критики», а с другой стороны, сама поддерживает постоянное наличие общества потребителей критики. Как это делается? А, например, так. Апологет «новой драмы» Павел Руднев пишет: «Ясность, понятность искусства оказывалась условием его насильственного восприятия. Порождать смыслы – значит жестоко манипулировать сознанием зрителя». То есть, мы должны испытывать резко критические чувства отрицания ко всему, что ясно. Мы должны отказаться от смысла – любой смысл, ясно проявленный в спектакле и понятый зрителем есть акт насилия (теперь этот термин заменяет недавний тоталитаризм). Да, вот именно так работает индустрия обличений. По сути, критик призывает нас к неоварварству и производству эстетической анархии, к дальнейшему руинированию культуры, к разрушению всяческой гуманитарной коммуникации между людьми. Мы видим, что и в новой драме (как части «современного искусства») «натаскивают гражданина на спокойное отношение к проявлению любых непонятных ему действий».
Так что хорошо, что публика увидела спектакль (и в основном не приняла его) про «13 правил баскетбола…» – она теперь на себе, лично, прочувствовала как работают техники «актуальной» драмы даже в щадяще-умеренном воплощении режиссера. Александр Баркар, уверена, умеет и «держать удар», и повернуться лицом к зрителю.