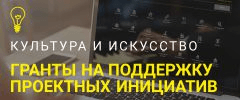Акростих великой судьбы
Разработка сайта:ALS-studio
В воспоминаниях артиста и комментариях критика.
В жизни, прожитой по-настоящему, главные события – это люди, которых ты полюбил. Они – родители, жена, дочь, внук, учителя, режиссеры, партнеры по сцене, ученики, драматурги, друзья – это и есть твоя судьба. Виталий Венгер, что у него про жизнь ни спроси, – рассказывает о людях. Многих из них уже нет, но они – это он, и в его живописных рассказах они продолжают жить.
Театр его судьбы начинается с московского детства – мамы Лидии Соловьевой, папы Константина Венгера – и продолжается в Иркутске красавицей-музыкантом женой Эльзой, красавицей-музыкантом дочкой Наташей и внуком Гришей (он с детства с дедом в театре, иногда и на сцене).
– Видимо, актерство передалось мне от матери. Когда я смотрю ее фотографии – у нее нет нормальных фотографий. То она шубу какую-то напялила, то шляпу с пером, то она в какой-то позе ненормальной. Чтобы я ел молочную тюрю, она связывала четыре стула – это называлось у нас «московский автобус». Я садился за руль, кастрюля, привязанная к спинке стула, – она играла пассажира и втюхивала в меня противную жижу. Пока доезжали – съедал как миленький. Вот мой первый театр и первый режиссер.
Папа – слухач: без музыкального образования играл на шести инструментах. Такой талантливый еврейский мальчик из Ленинграда. Вся его семья там и погибла – кто от Гитлера, кто от Сталина. А те родные, кто жил в белорусском Клецке, не успели сбежать от немцев и там сгинули. Папа играл и на пиле смычком – такой получался реквием.
И когда в Иркутске у нас с Эльзой родилась Наташа – выручал старый патефон, из которого хрипел «У Черного моря» Утесов. Только под Утесова она соглашалась спать. Эта «колыбельная» основательно вошла в репертуар наших ночных успокоительных концертов и была до предела заиграна. Эльза с мамой по очереди укачивают Наташку, мотаясь из угла в угол в тесной комнатушке – это в 1950-е была вся наша жилплощадь. А я дежурил у патефона, в полусне подкручивая пружину. Иногда сон одолевал, ручка патефона с шумом раскручивалась – начинай сначала.
Те патефонные ночи – это уже после щукинского театрального училища, откуда он в 1950 году распределился в Иркутский театр драмы где и служит до сегодняшнего дня.
А об учителях своих он говорит и пишет всю жизнь с неубывающей страстью. Уроки вахтанговцев он длит всю жизнь и все декламирует их имена: Вера Константиновна Львова, Леонид Моисеевич Шихматов, Виктор Григорьевич Кольцов, Владимир Иванович Москвин… много еще великих имен.
– Москвин – сын знаменитого Ивана Москвина, с чьего царя Федора началась эра Станиславского. Младший Москвин был артист эпизода, играл рыжих фрицев. Потрясающий педагог! Если я немножко могу на сцене думать – это от него.
Юмор – кольцовская прививка. Я у него в отрывке из Чехова играл Козявкина: он из гостей не попал к жене, а попал в курятник, его куры там обгадили, петух обклевал – и я все это под руководством Кольцова изображал.
Астангов, Абрикосов, Гриценко – общение с вахтанговцами, которые не преподавали на курсе, но приходили к нам, рассказывали о своей «линии жизни» – это была, я вам скажу, школа. Уж не знаю, судьба так судила, что я к ним попал, – послевоенный зеленый пацан. Окончить сегодняшнюю «Щуку» гораздо было бы проще и… скучней.
Любит говорить о Гриценко и показывать его: Виталий Венгер близок великому вахтанговскому лицедею по своей актерской природе.
– Николай Олимпиевич Гриценко был моим кумиром. Он не был моим учителем, но я учился у него на спектаклях, впитывал манеру его игры, крайнюю степень актерской самоотдачи. Его мастерство перевоплощения уникально, актерский диапазон огромен.
От Шихматова, руководителя курса, – его въедливость, обстоятельность и неуловимые переходы от серьеза к юмору.
– Стоит возле окна, пожирает толстый бутерброд – а нам вечно есть хотелось, – глядит вдоль Арбата на строящуюся высотку Министерства иностранных дел: «Хочу определить ваш глазомер, Вилли: сколько отсюда до стрелы того крана?» Я: «Ну, метров 700–800». Нет – домогается точной цифры, до сантиметра. Сошлись на 872 м 60 см. Всю вторую половину урока я думал: откуда такая точность? Только потом догадался, что – «мюнхаузил» (курсовое выражение).
И гнев от моего неумения был у него особенный. В «Соперниках» Шеридана я никак не мог произнести «Джулия! О!». Ну неудобно же – и я орал: «О! Джулия!» Шихматов: «Вилли, черт вас возьми! Еще раз ошибетесь – кину в вас пепельницу!» А она была тяжелая, чугунная. Я выхожу с партнершей – и опять: «О! Джулия!» Он: «Кидаю!» И кинул. Но я успел спрятаться.
И теперь за левой кулисой в Вахтанговском театре вам покажут эту «виллину» отметину в стене. – Вера Константиновна Львова – жена Шихматова, женщина темперамента огненного. Как она меня вздрючила тогда, так я вздрюченный до сих пор и хожу. Хотя понял, что иногда можно бы и похладнокровней. Это от нее – и на всю жизнь: «Первое, что сделайте, – это заведите дневники наблюдений, причем несколько: за всем наблюдайте. Я не знаю, как у вас потом сложится, что с вами будет. А дневник – ваш справочник, ваша «телефонная книга». Это вам не-об-хо-ди-мо, буду проверять и ставить оценки». Когда сказала про оценки – многие ко мне обращались: как и что записываю. Юнец, я первым откликнулся на это дело. Юра Яковлев, будущий народный артист, все спрашивал: «Виля, а что она еще сказала?» Он был курсом младше.
Юрия Катина-Ярцева, своего однокурсника (тот был старше на восемь лет) Виталий Венгер считает еще одним драгоценным учителем:
– Мы домой к нему приходили, мама его, Юлия Михайловна, кормила нас… Юра разминал со мной все, что мы проходили по мастерству. Потому что многого я не понимал.
Был у него на курсе юнец всего на полгода постарше, но много въедливей.
Мишка, Михаил Ульянов. Тот сутками не выходил из училища. Упорство свое привез из сибирского города Тары, в 400 км от Омска.
– Я по сравнению с ним был полный… поц. От него – вот что: ухватится мертвой хваткой – и не выпустит, пока все не возьмет. Это мне нравится: «Держи, до конца!» Таким он влез в Жукова, Егора Трубникова – Председателя, Егора Булычова – слушай, три Егора получается, а?..
Есть и у меня это – по части хватки.
За 55 лет, работая и живя в провинции, я, конечно, немало потерял. Сколько сменилось режиссеров и руководителей с разными направлениями, со своей методологией, а чаще и вовсе без нее. С годами научился «переводить» язык любого режиссера на свой, исполнительский. Когда удавалось – побеждал, когда нет – проигрывал. Но всегда стремился оставаться на уровне своей выучки, мастерства, вкуса; быть профессионалом: быть понятным в речи и поступках, быть слышимым в родном театре и на чужих сценах, совладать с темпами и ритмами, быть пластичным, музыкальным, выразительным и в меру заразительным, постоянно тренировать свою внутреннюю и внешнюю технику. Таковы были требования моих учителей, я им следую посейчас.
Эти двое упрямцев – «Мишка» и «Вилли» – оставались близкими друзьями до самой недавней смерти великого Актера, многолетнего художественного руководителя Вахтанговского театра Михаила Ульянова. В рассказах Виталия Венгера «Мишка» не умирает ни на минуту.
Как сложился в 1950-е, когда он приехал в Иркутск, тот легендарный «Сибирский МХАТ» – Иркутский драматический? Уже много последних десятилетий этого звания достоин, пожалуй, только Омский академический. Может быть, одно из объяснений – это то, что тогда в Иркутске был директором Осип Волин, а позже в Омске – Мигдат Ханжаров, оба потрясающие коллекционеры актеров. И с юным Венгером он, как выясняется, сделал судьбоносный для театра выбор.
– К Осипу Александровичу Волину в полной мере можно отнести характеристику идеального директора у Станиславского – я за нею вижу Волина.
В Иркутске трудились великолепные мастера: Николай Харченко, Галина Крамова, Екатерина Баранова, Алексей Павлов, Константин Юренев, Аркадий Тишин, Владимир Серебряков, Абрам Руккер – да простят мне старые театралы то, что я обрываю этот список, он на самом деле много длинней!
Александр Терентьев: режиссер из актеров – и самый актерский режиссер. Он умел разгадать актерскую «изюминку» и делал это почти безошибочно. Он меня от характерных ролей обратил и к серьезному материалу. Это от него: «Дорогой, возраст прибавляется, нельзя оставаться ребенком. Хватит искать походки, бычьи пузыри и гондоны. Почитай теперь «Обыкновенную историю».
О «пузырях и гондонах» – это к Абраму Руккеру, великому мастеру грима. И постоянному объекту моих наблюдений за ним как характерным актером. Мне было чуть за 20, а моему персонажу в шиллеровском «Дон Карлосе», зловещему Великому Инквизитору, – 95! Помог Руккер: на макушку – бычий пузырь, а на лицо… мы с ним раскроили презерватив, наклеили его полосками на мягкие ткани лица театральным клеем. Когда клей подсох, резинка стянула лицо так, что я постарел как раз на 70 лет. Ставил спектакль Терентьев. Увидев меня с новым лицом, он икнул, потом поднялся на сцену, взял меня за руку и повел в кабинет к директору театра.
Волин – шутил он редко! – сказал, обращаясь почему-то к режиссеру: «Ну что же вы испортили такой продукт – он ему на другое место бы пригодился». И после премьеры приказом прибавил мне к зарплате десять рублей – «за творческую фантазию».
Над «Обыкновенной историей» мы работали с моим другом и многолетним незаменимым партнером Виктором Егуновым: я был ему дядя, он мне – племянник. С Терентьевым на первых же репетициях договорились о главном – искать в злом гении Петре Адуеве симпатичное, обаятельное, не играть его отрицательных сторон, ибо они вылезут на поверхность сами. Потом комиссия, принимавшая в те годы спектакль, попеняла режиссеру и мне за то, что «отрицательный» недостаточно отрицателен… Теперь это история. Необыкновенная история.
А в чем-то, увы, и обыкновенная – слишком часто сегодняшняя сцена в ущерб себе разжевывает для случайного зрителя, чтоб не ошибся с оценкой: кто положительный, а кто – наоборот. Правда, и Виталию Венгеру приятно вспомнить, как он одного негодяя на сцене «приложил». Но это, я думаю, зритель вступился за своего кумира – Галину Крамову, которую «обидел» наш герой:
– В «Острове Афродиты» я играл откровенную сволочь – английского офицера-оккупанта на Кипре. В самый напряженный момент, когда мой стек уперся в подбородок Крамовой – матери патриотки, с галерки женский голос отчаянно крикнул: «Уберите со сцены эту зеленую сволочь!» В зале повисла тишина… а для меня это была шикарная рецензия.
С какими режиссерами Виталий Венгер встретился в Иркутске? – Куликовский, Шатрин, Табачников – чтобы кто-нибудь из молодых актеров сегодня испытал власть такого триумвирата! У каждого из них было свое. Анализ – у Александра Шатрина: он умел читать пьесу как мало кто; это можно сравнить с хорошо отрежиссированным радиоспектаклем: на слух воспринимались тончайшие нюансы характеров и взаимоотношений героев. Начиная с Аттилио в «Субботе, воскресенье, понедельнике» я стал чувствовать необходимость внутреннего перевоплощения. Находкам – без грима! – Шатрин радовался как ребенок.
Куликовский – экспериментатор. Он говорил: «Виля, здесь можно похулиганить». Помню, за какого-то Симку-тракториста в советской пьесе он мне на программке написал: «Виталий Константинович, спасибо за очередное хулиганство». Давал возможность распахнуться – у Табачникова это не очень проходило, зато тот был замечательным режиссером-педагогом.
Вспоминая репетиции Куликовского или Табачникова, я думаю об идеале взаимоотношений режиссера и актера: они «самоутверждались» через актера. И у них я возвращался к возлюбленному еще с училища водевилю – так же, как с режиссером Вологжаниным в «Последнем параде» и с Терентьевым в «Сверчке».
В «Последнем параде» бравурная троица – Тишин, Егунов, Венгер – под песню Высоцкого («Встаньте на пол, руки шире, вдох глубокий, три-четыре, бодрость духа, грация и пластика…») до сих пор в моей зрительской памяти марширует по сцене.
-Тоже урок, от великого нашего завлита, незабываемого чудака и эрудита Павла Маляревского: «Отрабатывай, дорогой, технику исполнения до автоматизма, а потом выдавай номер как вроде бы случайно получившийся. Сиюминутная импровизация не возникает сама по себе». Это по-щукински: помню, как скрупулезно ползал по сцене, готовя свой эпизод, Николай Гриценко. А потом его смешной герой на спектакле спотыкался, падал, вставал, облепленный окурками с пола, и уходил под аплодисменты. «Щукинская» формула: сделать трудное доступным, доступное – легким, легкое – красивым».
А режиссеры случались и потом – правда, чаще всего они приходили – и уходили, поставив спектакль. Виталий Венгер благодарен Владимиру Симановскому за «Человека и джентльмена» – свою вторую встречу с Эдуардо де Филиппо, итальянским гением, близким ему «по крови» драматургом.
– Мне нелегко назвать свою любимую роль. Но в Дженнаро из «Человека и джентльмена» я был влюблен до последнего спектакля. Об этой работе много писали. Мы жили на гастролях в Хабаровске в одном номере с Симановским, и ни один вечер не обходился без наших фантазий о Дженнаро.
Николай Угодник – старик из «Характеров» Шукшина – так до сих пор в моей памяти и сползает в исподнем с лежанки на печи. Блестящая пластическая характеристика совсем отдельного человека.
– Аплодисменты, сопровождавшие его появление, настораживали: если узнали актера – радости мало: игра на известности, на «вчерашних букетах». Но нет – здесь хлопали персонажу.
Честно сказать, и в Шукшине, и в «Сказках старого Арбата» у того же Черткова приходилось полагаться больше на себя, чем на режиссера. Для моего добрейшего Христофора Блохина в «Сказках…» Арбузова я «ловил» похожих на него людей на улицах, в столовых, в магазинах, на транспорте, в библиотеках, в кинотеатрах. Однажды нашел: пожилой человек на скамье с газетой в руках то и дело отрывался от чтения и поверх старых круглых очков глядел на играющих детей. Все забыв, он в восторге поднимал густые брови, а обрамленный редкими усами рот как бы артикулировал детские возгласы. И глаза – они были не по возрасту озорными. И я дал своему Блохину его глаза.
«Трехгрошовую оперу» поставил у нас ленинградец Геннадий Любовицкий. Первый Брехт в Иркутске – это был крепкий орешек. Своему Мэкки-Ножу я, памятуя уроки Гриценко, вмонтировал серные спичечные пластинки в разные места костюма и мог зажигать спичку о любое место: такой бандитский фокус. В университете после обсуждения спектакля студенты провожали нас, скандируя: «Мы – за Брехта!». Там было много музыки, пластики, а живое брехтовское «отстранение» актера от персонажа продемонстрировал мой друг Егунов в роли Смита.
И вот как это было. Я на сцене, и вижу, что на противоположной стороне студентки театрального училища и молодые артистки – «штат» публичного дома – окружили Егунова и давятся от смеха, что, в общем-то, было «отстранением» от содержания эпизода. Я подтянулся незаметно – ничего сначала не понял: Егунов стоит как ни в чем не бывало, все в костюме и гриме вроде в порядке, но… вдруг рот его растягивается в улыбке – а усы превращаются в слово из трех букв… Тут и мой грозный бандит Мэкки потерял всякий серьез.
Настоящей подсказкой от режиссера Юрия Григоряна я воспользовался в «Смерти Тарелкина». Он подбросил мне образ «паука» для Тарелкина – и дело пошло. Я выбрал старый, испытанный, архаичный, как иногда считают молодые, путь – зато самый верный, рожденный учением Станиславского: идти от себя – но обязательно уйти от себя.
В любой роли меня никогда не устраивал усредненный, серый вариант проживания.
Оставаться хотелось артистом, а не актером: актер – исполнитель, грамотный, обученный, но не больше. Артист же – это художник, вкладывающий в то, что он делает на сцене, свое понимание, свои мысли и чувства. Я считаю свою судьбу счастливой прежде всего в том, что театр сводил меня с замечательными русскими и западными классиками, а с творчеством Сухово-Кобылина – дважды: Кречинский и Тарелкин.
В Островском, который, как казалось в училище, «не его» драматург, Виталий Венгер сыграл неожиданно много: «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Сердце не камень», «Последняя жертва», «Василиса Мелентьева», «Волки и овцы», «Таланты и поклонники», «Бешеные деньги».
Изяслава Борисова – «сумасшедшего новосибирца» – он нежно любит, написал о нем в книге, посвященной режиссеру, которая скоро выходит. «Воронья роща» Александра Вампилова в постановке Изяслава Борисова, где на двух половинах сцены в разных вариантах одного сюжета снова сошлись Венгер и Егунов, в моей памяти – классическое прочтение пьесы, гораздо более легковесной в привычном виде «Провинциальных анекдотов». Спектакль шел долго и с заслуженным успехом и у нас, и на гастролях.
Что было хорошо в давно вымечтанном Короле Лире в спектакле Геннадия Шапошникова – это редкие моменты физического покоя и почти шепот героя с авансцены – пронзительные мгновения в стороне от агрессивной (и опасной) бутафории.
В «Поминальной молитве» Григория Горина у режиссера Олега Пермякова его Тевье-молочник ряд сезонов возил по сцене телегу – и это был емкий образ судьбы вечного труженика и одновременно почти античный по трагизму образ человека, ни на кого не перекладывавшего ответственности за себя и за свой мир. Тевье – Венгер, тогда 70-летний юбиляр, в вечер бенефиса на этой телеге вез, кажется, всю актерскую братию. Он как будто вез из глубины сцены на нас, зрителей, всю свою жизнь, свою неспокойную и счастливую театральную судьбу.
Его Китайца в «Порт-Артуре», одну из первых ролей, вспоминал иркутский поэт Марк Сергеев: «Он является к адмиралу Макарову с важным сообщением. Малюсенький эпизод – но талант актера заставил меня запомнить его и пронести в памяти сквозь всю мою не такую уж короткую жизнь».
Непривычно живые его персонажи на фотографиях – что совсем уж редко в актерских снимках. Часто артист застывает, как «просто человек» перед камерой, – и оказывается, что так легко покинувший его в этот момент персонаж слишком неплотно к нему прилегал.
Гоголь режиссера Вячеслава Кокорина принес Виталию Венгеру (за роль Подколесина в «Женитьбе») Государственную премию. Кокорин – вообще отдельная статья в жизни артиста. Он и посвятил режиссеру отдельную главу в своей книге «Я верю в театр Кокорина».
– Энергии, которую он вкладывает в репетиции, в поиски, в пробы, хватило бы на пятерых режиссеров. Он требует от актеров такой же отдачи, и тут он совершенно прав, – и радуется, когда есть результат, и бурно огорчается, когда его нет. Премьера «Леса» стала моей самой важной встречей с Островским. Мы снова встретились на сцене с моим другом Егуновым: он – Счастливцев, я – Несчастливцев. На репетициях было настолько интересно, что не замечали, как проходили многие часы работы! Мастерскую высоту набирали все: и Тамара Панасюк – Гурмыжская, и Елена Мазуренко – Улита, и Виталий Сидорченко – Восмибратов, и Александр Берман – Карп. Премьера была радостным, долгожданным событием: в городе появился режиссер – истинный лидер. Пошли кокоринские премьеры: «Сорри», «Женитьба», «Гамлет» в театральном училище, «Хорошее убийство» по «Войцеку» Георга Бюхнера, «Веселись, негритянка!» Андрея Василевского, «Самое главное» Николая Евреинова, наконец, «Дядя Ваня». В трех из этих спектаклей я был занят.
Если меня спросить, что я испытываю в работе с Кокориным в таком, например, абсурдистском спектакле, как «Веселись, негритянка», или в роли злого зануды профессора Серебрякова у Чехова, – я отвечу однозначно: он дает мне возможность наслаждаться профессией.
Виталий Венгер наслаждается профессией во всех ее проявлениях. Он много лет преподает в Иркутском театральном училище. Пишет новую книгу. Готов выйти на сцену пусть даже в небольшом эпизоде. «За честь и достоинство» – называется его самая престижная «Золотая маска». Он – честь профессии, великий наш артист.
Роль Серебрякова стала материалом для моей статьи «Виталий Венгер как учебник литературы». Даже у лучших, знаменитых исполнителей этой роли он – ядовитый упырь, и это, увы, прямолинейная традиция в театре. А Венгер рассказал мне поразительную историю: он, в духе кокоринского спектакля, так впустил в себя этого желчного подагрика, что «заболел» его болячками.
– Я расшнуровал моему бедному несимпатичному герою ботинок на левой подагрической ноге – стало легче. Конечно, это не для зрителей: кто разглядит такую мелочь из зала? Так и играл. Как-то в антракте вбегает в мою гримуборную режиссер: «Все идет неплохо». Взглянул на мои вытянутые ноги: «Старик, а где у тебя шнурок? Я: «Болит нога, подагра, так легче». Он: «У кого подагра?» Я: «У Серебрякова». Он подходит ко мне, целует: «Закрепить!».
Этот шнурок стоит, ей-богу, многих учебников. Театр – не судья своим героям: они живут здесь, и у каждого своя болячка, своя правда. Венгер это знает.
…Вера Львова читала на курсе в «Щуке» дневниковые записи Евгения Вахтангова. Вот какая особенно ему близка: «Думал – радоваться! Радоваться! Дело жизни, назначение ее – радость. Радуйся на небо, на солнце. На звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей… Нарушается эта радость – значит, ты ошибся где-нибудь, ищи ошибку и исправляй. Нарушается эта радость чаще всего корыстью, честолюбием, и то и другое удовлетворяется трудом».
18.04.2008